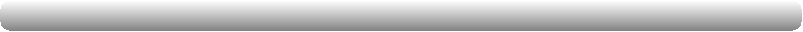- Мужик, сигарету дай!
- А волшебное слово где?
- В ухо хочешь?
И тогда объявили, что не будет более войны, и все могут разойтись по домам. И колченогий, истерзанный зубами Марса старик, стеная, разрывая на себе остатки волос, и плача как малый ребенок, закрыл двери Храма Войны. И сытые вернулись к своим баранам и жадно журчащим сковородкам; нищие бросились к папертям и пытались за свои рубцы и выбитые зубы получить у своих сограждан хлеба и пития; дети же взяли у своих родителей копья и луки, и ушли в лес, где тайно учились убивать. Но герои, уже были готовы к своим терновым венцам, герои жаждали дать земле влаги из своих набухших аорт. Но некому было освободить их от взбесившейся крови, но нечем было занять их воинственные руки – ведь они были героями, и умели лишь убивать и быть убитыми. И бродили они по Городу, обливаясь пьяными слезами, и не давали жизни ни сытым, ни нищим. Искали они того, кто привел Город к столь ужасной беде, но не было его пред глазами, и били они с горя окна сытых граждан и разбивали в кровь морды нищим.
Вечером, когда на западе полыхнули зарницы и был по всему небесному своду гром великий, вышла река из берегов, залила река Город, и до самого утра искали жители в черной воде своих близких. Утром было знамение, авгуры пытались скрыть его от народа, за что и были разорваны вконец упившимися героями.
Так прошли первые сутки без войны.
ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ ЖЕНЫ
1. Зарегистрируйте жену в обществе своих друзей охотни-ков. Регистрации подлежат только те женщин, которые получили оценку экстерьера.
2. Следите за ростом и развитием жены. Не держите жену на привязи. При заражении ее рефлексивностью срочно обращайтесь к ветеринарному врачу. Только правильно выращенная жена будет в конце концов хорошей женщиной, лучшим другом человека.
3. Своевременно приступайте к натаске и нагонке.
4. Выставляйте ее на выставках, выводках и испытаниях.
5. Не допускайте бродяжничества своей жены.
6. Вязку регистрируйте в обществе друзей-охотников и на детей получайте справки о происхождении, которые передавайте далее по инстанции.
- Вот так и бывает. Он уходит на работу. Я встаю, обязательно встаю. И что-нибудь готовлю. Самое смешное – мне нравится готовить ему. Я его спрашиваю, например: «Что бы ты хотел?». А он скажет: «Пирожок». И все! Я делаю ему пирожки.
И мне нравится это. Ну вот ты смеешься… Не знаю. Мне просто до дрожи приятно видеть как он его будет есть. Ведь это – мой пирожок. Я его испекла. И, ты знаешь, я просто физически ощущаю как я овладеваю им..? Ну-у, ты опять смеешься, да не пирожком, конечно. По-моему, это вообще единственный способ как женщина может обладать мужчиной. Да, да! Через этот самый пирожок, и он победно проникает, пронзает его.
А потом он уходит. На работу. А я жду. Я представляю – вот он идет по гулкому подъезду, открывает дверь. Дверь противно скрипит и я ее ненавижу. Как она смеет скрипеть в его присутствии? Он идет по улице Герцена, светит солнце. Это обязательно – солнце. Ну, не может быть, чтобы он шел по улице, а солнца не было. Навстречу попадаются какие-то люди, а я сижу в старом кусачем кресле обнаженная и завидую им, какие они счастливые – они могут видеть его. Как должно быть счастлива эта дурнушка, которая глупо мерзнет и бьет нога о ногу, пытаясь выбить из сапожков глупый мороз. А он стоит у ее глупого развала и умно перебирает книги. И я чуть не плачу от досады, что вот она и глупа и недостойна быть в лучах его, но тем не менее все-таки стоит в метре от него, а я скучаю одна-одинёшенька в бабушкином кресле-качалке. А он уходит все дальше и дальше. Но я все равно пускаю по его следу маленьких сереньких мышек глаз моих и благоговею, осязая, что он шел здесь.
Я перебираю какие-то вещи. Просто и бессмысленно – с места на место. Потом вдруг начинаю двигать кровать, стулья, ковры, шкафы… Он придет, а я лежу под тяжелым одеялом такая маленькая на такой большой кровати. И он увидит – я жду его. И только его. Я приготовила ему суп. Его любимый суп-харчо с черносливом. Я выгладила его рубашку. Как я хотела бы стать его рубашкой, ты и не представляешь себе. И он никогда не простывал бы.. Ой, когда он болеет – это просто ужасно. Я не нахожу себе места – у меня бьются тарелки, стаканы, окна, часы, зеркала.. Но он выздоравливает и к нам опять возвращается солнце.
Детей привели на стройку. Группой на экскурсию. Их встречает прораб, раздает каски и гонит фенечку, как недавно один мальчик, причем двоечник, гулял по стройке без каски, а сверху упал кирпич и мальчик умер. А за ним шла девочка, но в каске, конечно, кирпич упал на девочку, а она только улыбнулась и дальше пошла.
И только Вовочка знает эту улыбку – девочка до сих пор ходит по его квартире в каске и улыбается, улыбается, улыбается. У-лы-ба-ет-ся, дура.
А жена мне вчера по телефону сказала, что жить без меня не может. Она недавно была наконец влюблена. В моего друга. И с этих самых пор поняла, что без меня не может. Странная все же субстанция женская логика.
Она сказала мне: «Вовочка, я тут поняла, что такое любовь. Нам такого не надо!»
А я уныло засвистел и спросил ее: «Девочка Надя, а чё тебе надя?»
А она ответила: «Твоего присутствия и моего права на перманентное отсутствие. Но, чтобы каждое мое отсутствие завершалось твоим еще раз окончательным присутствием».
А я спросил: «А можно, когда ты будешь отсутствовать, то и я буду отсутствовать?»
А она ответила: «Нет, Вовочка. Отсутствовать буду я, а ты будешь присутствовать. И такова твоя мужеская доля».
А друг мне вчера сказал: «Бросай ты ее, дурик. Сука она. Тебе тоже надо жить. Ведь каждому человеку надо жить» - сказал он и хлебанул стакан чая, и сожрал бутерброд с колбасой, и закурил сигарету «Opal». Я тоже закурил сигарету «Opal» и спросил, запивая бутерброд с колбасой холодным чаем: «А зачем, Вася?». «Надо, Вова» - мужественно произнес друг и затушил бычок в банке из-под майонеза. «А я живу» - зачем-то соврал я. «Не верю» - хищно улыбнулся друг, и тогда я тоже загасил сигарету о стеклянную банку. Из-под майонеза.
А вчера было холодно. Я вышел в похмельи на улицу и тоскливо влачил свое существо по длинному осугробленному тротуару, лениво разгребая руками морозный колкий воздух. Я шел и был никому не нужен. Точнее торгаши пока еще обманывались на этот счет. Они предлагали мне цветы, духи, газеты, презервативы, ракеты, кометы, помёты, девочек, бабушек, мальчиков, зайчиков. Но мелочи у меня в карманах не было. А без нее я им, возможно, не был нужен.
Я остановился у полосатого ларька-дорогушника. Посмотрел на усталого от жизни и чужих денег, сидящего в шубе, замерзшего и потому нахохлившегося продавца и спросил… Нет, я не сразу его спросил об этом, сначала его надо было пробудить к жизни. Поэтому я сказал пароль: «А почем у тебя баксы?» А уже потом, углядев в его глазах ковыляние мысли, спросил просто и с достоинством: «Слушай, скажи – я тебе нужен? Нет, я ничего не хочу продать. Покупать тем более. Нет, мы с тобой не встречались. Нет, я не мент. Нет, и не этот. И даже не из братвы… Просто… да нет, мы не знакомы, просто скажи мне честно – я тебе нужен? Просто как я?» Он вздрогнул, психанул и хлопнул окошком. Мент, сидящий рядом с ним, начал тихонько и со значением привставать со стульчика. Я пошел дальше. Чего мне взять с них, дураков, а уж с меня, дурака, и тем паче.
И когда умер Великий Наркоман Вася, со всех сторон нашей обдолбанной capital-city собрались несчастные собратья его. И попытались они пройтись, не разбредаясь и не теряясь, по улице Герцена. Но они все равно разбрелись и потерялись по переулочкам и закоулочкам, да по подъездам. И лишь двое из них доковыляли до выхода на Манеж. Там встали они неловко у светофора и попытались вспомнить к чему же вся эта фенечка была. А над смурными их хаерастыми головами плескался в заснеженном воздухе транспорант: «Ты не умер, Вася! Ты просто гонишь».
Дверь защелкала вставными своими затворами и массивно поехала в мою сторону. Она была тихо беременна моим другом и почему-то меня ненавидела.
Сидели на табуретках в кухоньке, баловались чайком, заедали сухарьком. Плакались в тряпочку. Я говорил, что все понял. Только вот что понял – сказать не получается. Немеет, говорю, язык, немотствуют уста. «Не прет истина, Вася! Недавно проснулся утром – кошка на грудь прыгнула, за окном снег шуршит. И ощущаю, что всё, чем до этого утра мучился, всё это, наконец, и понял. А хочу ухватить это всё и не могу. Дошел, понимаешь, до стадии умной старой собаки – все понимаю, а сказать-то и никак».
А Вася пыхнул косячком и уронил из цветастого рукава халата на гулкую деревянность стола две фигурки.
На постаментике – статуя. Палач. Стоит гордо, экзистенциально уронив к ногам топор. Возложил руки, тонкие, пианистические на длинную ручку. Она – полированная и сверкает матовым, затертым рукавицами деревом. И в фигуре его дремлет могутное значение, словно он – Иван Сусанин, Феликс Эдмундович или герой-партизан, по крайней мере. Только глаза усохли. От времени что ли?
Ослиноголовый сидит, сияя улыбкой во всю ширь щек ослиных, чуть наклонился к ногам, согнутым в колени. Сквозь сведенные ноги пробиваются к верху его грустные руки, взбухая между ног корявым фаллосом. А я посмотрел на него в профиль – а он сидит тоскливый такой, оказывается. Дошел до стадии умного осла – все понимает, но понимать-то уже и не хочет.
- Ты замечаешь, Вася, насколько вокруг стали атеистичными лица? Видишь ли ты в них тоску по отсутствующему в сердцах их Духу Свя-тому?
- Нет. Не вижу, - вздохнул Вася грустно.
- И не увидишь. Нет в них тоски, а одна только гулкость пустую-щих сердец. И вот ведь что интересно, они-то и не страдают. Замечал ли ты в глазах их отблеск страдания?
- Нет, Вовочка, не замечал. Страдание – это наш удел.
- Да, - мужественно согласился я на роль страдальца..
- Ты же знал, что они бляди? - взглянул на меня искоса Вася.
- Знал, - искренне удивился я и… не заплакал. Почти.
- Все просто, Вовик. Господь наградил их блядством в качестве восполнения ущерба от мук их. Ведь посмотри, что они, суки, делают. Он все, почти поголовно, когда-нибудь рожают. Вот ты когда-нибудь рожал? - спросил он подозрительно.
- Нет, - неуверенно я ответил.
- Вот! За это они нас и ненавидят. Всегда. Они рожают, а мы не ро-жаем. Значит, твари мы для них последние и можно с нами только трахаться.
Дверь массивно поехала от меня и защелкала тяжелыми запорами, упрятанными во чреве ее. Она продолжала меня ненавидеть.
На улице хлюпал снег. В выбитое окно была вставлена фанера. На ней читалась карандашная надпись: «1+1 не равно 2, ибо 1+1 – это все еще только 1+1, а 2 – это уже изначально 2!»
Фанеру страстно и со чмоканием целовали частые хлопья мокрого мартовского снега.
- Тема нашей лекции – разновидность любви. Лекция с показом слайдов. Бывает любовь мужчины к женщине…
- Слайды! Слайды!
- Бывает, так называемая, голубая любовь – это любовь мужчины к мужчине.
- Слай-ды! Слай-ды!
- Бывает розовая любовь – это любовь женщины к женщине.
- Слайдыыыы!!!
- А бывает страстная любовь к Отчизне. Вот теперь и пойдут слайды.
Я ползу, перемазанный кровью и мхом, по до боли знакомому шершавому телу моей возлюбленной. Я помню каждый когда-либо томивший меня изгиб его. Оно знало меня когда-то. И оно примет меня рано или поздно. Я успокоюсь и войду в него достойно мужа перед Всевышним. И старец понимающе кивнет головой, отмыкая ворота рая. Но здесь и сейчас я чужой. Они, овладевшие возлюбленной моей, в любую секунду вскинут стволы и дошьют меня обжигающей строчкой свинца.
Но я приполз к тебе, любимая. Я приполз к тебе умирать. Вот она – прохлада знакомой ложбинки. Кровь, покидая меня, вскоре сольется с твоею росой. Тогда я кончу.
Я – твой нелепый партизан в замызганном бушлате, обвис на пау-тинке колючей проволоки в пригоршне заболоченной низины. Глупый багровый цветок распустился на зеленом сукне под моей лопаткой. Запоздалый октябрьский цветок. Еще один – в букет для моей невесты.
По шоссе грохочут сапоги твоих многочисленных мужчин.
Во вторник, в семь часов пополудни в сердце мое нагло вселилась серая пугливая мышка. Сейчас она опасливо копошится под каждую новую песнь скрипучей двери. Дверь открывается и она нервно тыкается своим мокрым носом где-то в районе митрального клапана. Я чувствую ее частое горячее дыхание.
- Дурочка! - говорю я ей. - Ведь сердцу моему слишком жарко. Ну, не хочешь ли ты сварить его вкрутую?!
Она презрительно фыркает и обволакивает сердце маленьким пушистым тельцем. Эта серая мышь не любит некоторых моих друзей, слова, имена, даже названия некоторых городов приводят подчас ее в неудержимую ярость, и она перебирает, перебирает своими острыми коготками…
- Мне больно! - кричу я ей, и тогда моя мучительница плачет и хо-лодные слезки валокординовые кап-кап-капают… и мне становится неловко. Ведь она любит меня, черт возьми! Возможно. Да и могу ли я быть столь жестоким к ней?
А сегодня выяснилось, что она жутко ревнива. Правда, правда! Она ревнует меня ко всем женщинам старше 6-ти лет.
- Глупенькая мышка, - шепчу я ей. - Ну что ты переживаешь? Ведь уже никто из всех этих женщин не будет так близок ко мне как ты, гордый зверек, живущий в сердце моем!
И она засыпает. Ей некуда торопиться. Она знает – мы теперь будем до самой смерти. И тогда мышка покинет меня и уйдет к другому. А может быть и нет? Может они умирают вместе с нами и как наложницы за фараоном последуют за нами в Горние Сады? Да и кто знает, куда уходят мыши после нашей смерти.
«Дети!» - говорила воспитательница – «Запомните, в Советском Союзе у детей счастливое детство. У них самые лучшие в мире игрушки. Они весело играют, купаются в море, загорают.
В Советском Союзе дети постоянно окружены любовью со сто-роны взрослого населения. И взрослые приносят детям великолепные подарки, фрукты, конфеты…»
Вовочка захлюпал носом и ткнулся в упругие коленки воспитатель-ницы: «Тетя Вера! А когда наступит Советский Союз?»
«Не знаю дети» - растерянно вздохнула воспитательница: «когда-нибудь да и наступит. Если и не при нас, то вы доживете, ну а не вы, так дети ваши» - добавила она и спохватилась: «Дети, дети! а теперь спать. Ну-ка в кроватки. Я кому сказала?! Спать! Всё - баиньки».
Каждый человек куда-то идет. Инженеры, фрезеровщики, учителя, дворники трясутся в троллейбусах или качаются, повиснув на поручне, в густо-заселенном голубом вагоне. Музыканты, поэты, карманники бредут по ночным улицам, нелепо вымахивая тайные знаки каждому попутному четырехколесому ругу человечества. И все это только для того, чтобы дойти. До дома, до работы, до магазина, до тусовки, до ближайшего столба, наконец… Не надо улыбаться – у каждого своя мера, свой стакан.
Если цель слишком уж далека, человек едет на вокзал или аэропорт (если это «белый» человек, конечно), он покупает билет.
Если человеку просто некуда – он идет в зал ожидания. И там он пережидает свое бесцелье. Обычно, по невинности он надеется, что вдруг ба-бах! и спуститься к нему с небес, благоухая, сверкая блестками и мельтеша обильным своим присутствием, совсем новая, ничья еще, высокая-высокая цель. Несчастные они уроды, скажу я вам. Их можно узнать по потухшим взглядам и атавистической привычке облизываться безо всяких причин.
Таким и жить-то незачем по-моему мнению. Их надо просто и без эмоций убивать. И начинать надо с меня, родимого.
- Ох, ох, ох, ох: что ж я маленький не сдох?! – и под магнитофонный хрип. – Нна! Сука! Нна, подстилка! – азартно, с осознанием себя Отечества героиней, прорывалась из рук оробелых мужчин спортивного вида стерва и забивала кедом 39-го размера очередной гол в солнышко молодой, расплывшейся у вокзального турникета бабе.
- На! сука, – весело, до хрипа.
- Брось ее, Ленка! ну ты же ухайдакаешь ее! – это мужской басок торговца пивком.
- Ннна! – и деловито присела рядом, как на прополке, приподняла разбитую репу – Ведь ты – мать, дрянь! Ты посмотри, ребенок тебя боится! У-у-у, мразь. Приходила б и пила со своими кобелями одна! – и об асфальт, и за волосы, и с азартом.
Дидактический мужской голос торговца, оттаскивающего «спортсменку» вглубь торгового ряда:
- Ведь ребенок к маме своей идти не хочет, боится. Он даже не знает где живет, только «Подмосковье» он и помнит, тварь ты поганая.
Из разбитых пьяных губ злое к пацану четырех лет:
- Иди сюда! Я сказала – сюда!
Мальчик весело играет в «я не хочу», хитро улыбаясь, прячется за шипящего дядю. А с заднего плана выходит на очередной разбег «спортсменка».
Вовочка: Мама, когда будешь рожать меня во второй раз, роди меня удавом. Пожалуйста!
Мама: Зачем это тебе?
Вовочка: Я буду разговаривать и шипеть.
Три красных будочки. Три бесплатных телефончика. У первого телефончика мальчики-зайчики, у второго – дядя с длинным носом, а у третьего телефончика – хрен, с ветвистыми рогами олень.
1-ый телефон: Але! А Катю можно?
2-ой телефон: Ну че ты лепишь? Не был я там.
З-ий телефон: Катюш? (вкрадчиво) А ты че сёдня пьешь?
2-ой телефон: (передразнивая) Где? – на бороде! Катрин, я те русским языком…
1-ый телефон: Кать, это ты?
2-ой телефон: (кипя и вздрагивая) Блядь! Я русским…
3-ий телефон: (уныло) Значит, сегодня ты вообще не пьешь?
1-ый телефон: А это я, Ромка. Вот решил позвонить (гордо сквозь хихикание друзей).
2-ой телефон: (злорадно) Ладно, Катерина! Был – значит был. Щас туда и поеду – отмечусь. Всё! (хлоп телефонной трубкой наотмашь)
1-ый телефон: (затаив дыхание) Как это ты меня узнала? А я че хотел позвонить – у нас училка заболела.
3-ий телефон: Катюш? Ну немножечко сухенького? И поесть чего, голодные мы ибо.
1-ый телефон: (звеня восторгом) По матике! Да, первого урока не будет.
3-ий телефон Как это кто? Я, Дрюша и Вовик.
1-ый телефон: Пошли. Здесь еще Мусик с Еникеевым.
3-ий телефон: Да мы на немножечко, Катюш. Посидим, посвистим.
1-ый телефон: К русскому точно поспеем. Витька вон билеты взял.
(Открывается дверь второго телефона. Нервно загулял по цифрам кругляк диска)
2-ой телефон: (виновато) Ну ладно, Кать. Не был я честно… Я домой хочу в конце концов.
3-ий телефон: Ну да? А че дома-то сидеть. Я с благоверной в ссоре, сковородки летают, ага – погода летная.
1-ый телефон: Катя, встречаемся у Витькиного подъезда. Ну ладно.
2-ой телефон: (укоризненно) Катрин?..
Я открываю сегодня холодильник, а из него выползает бо-о-ольшой и свежий, пахнущий травой и огурцом Голос. И мы одни в этой ком-нате: я и этот идиотский грамофон, обвивший мою люстру и орущий про то как «камыш», про то, что «шумел» и «деревья гнулись».
И становится холодно. Мне. Слышали ли вы как поет зверь. Огромный зверь с миллионноруким и миллионноногим телом. И вспухает от рева его черными рубцами земля. И складываются дома как ворох ненужных карт. А испуганная земля проглатывает город. А слышали вы как орут кошки. Бедные кошечки, которым ломают хребты металлические балки. Они орут, но Зверь их не слышит, ибо рыку его подвластны и звезды. И нет под Луной ничего кроме Голоса.
И я боюсь, что сейчас будет стук в мою дверь. И этот Стук мне скажет: «Трам-пам-пам, и что четвертый час ночи!» Но свежемороженный Голос, оказывается не боится Стука. И правильно делает. Но он не боится и меня, а вот это уже неоправданно.
И я убиваю его и кладу в морозилку.
А вот и Стук. Пришел. Всё уже тихо: дома нет никто. Так что Стук, дружище, давай выпьем, и я не буду помнить за что ты меня отправил косить тайгу на спички.
Но нет. Это мог бы сказать мой Голос. Но я убил его.
На кухне обиженно фырчала сковородка, принужденная поджаривать на медленном огне «сальмонельную» яичницу.
Я излишне хотел быть и теперь был один. Я выплясывал у сково-родки, в комнатушке. Прикрывшись полотном «Московского комсомольца» тоже лежал я. И, над магнитофонной лентой колдуя, вставлял ее в раскрытую пасть 203-ей «Ноты» опять же я. И тот я, что был на кухне, кричал тому, что пытался за газеткой прикинуться ветошью, что спичек нет. И это означало, что и яичницы не будет. Но встревал я, подтаскивая очередной ворох катушек к «Ноте», если вывести формулу медленного горения из капли, которая камень точит, то к следующему обеду что-нибудь сварганим.
Мои «я» быстренько состряпали нужную формулу, и теперь поджидали следующего обеда. Честно говоря, когда был предыдущий обед, этого уже не помнил никто. Никто также не надеялся и на последующий обед, уж очень замедленным получился огонь. Но ждать было все же не в пример лучше, нежели вновь объединяться и совершать вылазки в логово грозного огромного зверя, человекоподобной массой, разлившегося у моего окна, у моих дверей, вплоть до самого горизонта.Его когти давно уже копошились среди звезд, словно в тарелке с жирным пловом, и он с раннего утра и до позднего вечера сладострастно урчал во многие миллионы глоток. О, когда мы вновь слышали это урчание, то я, который у кухонной плиты, испуганно замирал, и даже яичница подавленно притихала.
Но нет. Это еще не было штурмом. Просто головы менялись местами. Некоторые опадали наземь словно волосы, а та голова, что вдруг становилась повыше, начинала горланить, и голос ее перекрывал всё, он был всем, и происходил из всего. И даже в наших комнатах невидимый радиопередатчик голосом Главного провозглашал курсы, выигрывал войны и заказывал музыку. Однажды наше «я» перерыло всю квартиру в поисках этого вражьего голоса, но так и не нашло. И именно тогда один из меня стал на бессменную вахту к «Ноте 203-1 Стерео» для бесперебойной подачи ленты к магнитофонному жерлу. И голос, расстреливаемый рок-н-роллами умирал где-то в прихожей…
Но нет. Наличие голоса еще не было штурмом нашей хаты. Просто в звере происходил обмен веществ, и он, лишенный всякого чувства стыдливости, попукивал об этом из всех своих дыр и на весь белый свет. Но наше общее «я» все же знало, что это еще не штурм, что зверь еще спит. И мы спокойно могли бы поджидать своей трапезы. Могли, но все равно боялись. И это нас одиночило по всем трем комнаткам моей квартиры. И уж ни в коем разе мы не собирались вновь воссоединяться.
Да и яичница иногда все же фыркала и приближалась к обеду.
Вовочка: Мама, а горячая вода кончится?
Мама: Ну почему же? Закроем кран – водички не будет, а откроем – она снова пойдет.
Вовочка: Нет. Кончится.
Мама: Да почему, Вовочка?
Вовочка: Но ведь все кончается.
1987-92гг. Уфа – Москва.